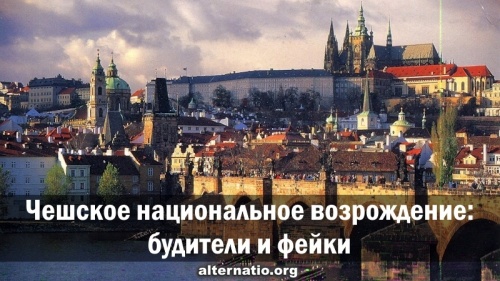
О Чехии в составе Священной Римской империи германской нации, а впоследствии и Австро-Венгрии в России чаще всего судят по «Похождениям бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. Ну и немного реже по его же довоенным рассказам. Вот только...
Вот только проза Гашека — сатира. Причём юмор пана Ярослава был весьма своеобразный: построенный на гиперболах и... зачастую немного чёрного оттенка. Ну или не немного. Так, уже после возвращения в Чехословакию с Гражданской войны в России (в которой он участвовал на стороне красных) на вопросы о красном терроре он отшучивался: «Единственное о чём я жалею, так это о том, что, когда у моих бойцов кончились нитки для подшивки подворотничков, я приказал вспороть животы детям купцов первой гильдии и использовать в качестве ниток их кишки».
В общем, положение чехов в составе империи Габсбургов было достаточно терпимым. Дело в том, что сама Дунайская монархия не была жёстким тоталитарным государством. Там старались по возможности учитывать национальные особенности народов, входивших в её состав. Так, например, в армии было понятие полкового языка. То есть солдат заучивал наизусть несколько десятков немецких команд, но вся остальная служебная деятельность велась на языке той местности, откуда в полк набирали рекрутов. Отсюда вечно напеваемые Швейком солдатские песенки на чешском: «Марширует Греневиль к Прашной бране на шпацир» или «Ах, Пьемонт, Пьемонт, видно, край ты панский»... Его 91-й Богемский пехотный полк говорил на чешском.
Другое дело, что чехи, в отличие от тех же венгров, не были привилегированным элементом в Австро-Венгрии. Ну так венгры себе свои права завоевали, а чехи... А у чехов с этим всё было спокойнее. Почему? Так весомого повода для бучи не было! Богемия в составе империи была самым (не одним из самых, а самым!) развитым регионом. Здесь на 1912 год находилось 76 процентов всей добывающей промышленности Австро-Венгрии. А ещё — машиностроение, текстильная промышленность, пивоварение.
Если в середине 50-х годов XIX века в районе Праги было 15 машиностроительных предприятий, то в 1905 году — 277, а в 1908 году только хлопчатобумажных фабрик в Чехии было 8 тысяч с 400 тысячами веретён. При этом растёт концентрация производства: земля в Чехии традиционно принадлежала по большей части помещикам (на долю 250 магнатов приходилось 31,3 процента земли), разорившиеся крестьяне шли в города и пополняли ряды пролетариата. Сразу стоит отметить, что чешские сельхозпредприятия выращивали в значительной степени не пшеницу, а востребованные на рынке свеклу и хмель — сырьё для производства сахара и пивоварения.
Впрочем, нужно отдать должное: капитал сосредоточенных в Чехии имперских предприятий был по большей части венский, то есть немецкий. Или еврейский: антисемитизм в Австро-Венгрии на административном уровне не приветствовался (хотя будущий «фюрер германской нации» как раз австриец, то есть определённые настроения в обществе присутствовали). А вот мелкая буржуазия... Как раз она-то была чешской! И именно она стала базой для появления чешского национального движения.
Впрочем, начнём сначала. После битвы при Белой горе Габсбурги начали борьбу с чешским протестантизмом и остатками гуситства. В 1626 году был издан указ, обязывающий всех некатоликов принять католичество или покинуть страну. Это было не гонением по национальному признаку, а обычной практикой, действовавшей во всех землях империи. Cujus regio — ejus religio — «Чья власть — того и вера», гласил принцип Аугсбургского мира, заключенного в 1555 году между протестантскими и католическими князьями. И массы людей, не желавших менять веру, получали от государства посох и напутствие валить куда подальше. Католики под крыло католических государей, протестанты — протестантских.
Одновременно началась унификация административной системы, причём в лучших традициях эпохи — с усилением центральной власти и ослаблением традиционных местных сеймов. Все чиновники начали назначаться из центра, государственным языком объявлен немецкий. Вот только касалось это... да практически никого! Дело в том, что в ходе начавшейся Тридцатилетней войны страна сильно обезлюдела. Из трех миллионов человек осталось от силы 800 тысяч. По большей части крестьян, которые слабо интересовались тем, на каком языке ведётся официальное делопроизводство и на каком языке учат студентов в Пражском университете (впрочем, окончательно на немецкий преподавание в гимназиях и университете перешло только в 1784 году).
Те оставшиеся интеллигенты, которым не нравилось писать по-немецки, писали по-латыни. Впрочем, поскольку свято место пусто не бывает, вскоре города стали вновь заселяться ремесленниками и торговцами. Немцами — других не было. Чешский язык стал языком деревни. Крестьян тоже стало меньше, и в деревню тоже потянулись немецкие поселенцы, так что и деревня постепенно германизировалась. Но! Те горожане, что перешли на немецкий язык, а порой и перебрались в Богемию из германских земель, начинали считать себя чехами. И именно они начали движение за национальное возрождение...
А возрождать уже было чего. Дело в том, что в 1713 году была принята Прагматическая санкция, которая запрещала делить земли дома Габсбургов. Теперь империя могла передаваться по наследству только целиком. А это подразумевало единое делопроизводство и единую административную структуру. Богемия практически объединялась с Австрией. И теряла свои оставшиеся со Средних веков привилегии. Вот только гонением на чехов это опять же не было!
Первый кружок чешских патриотов собрался в 1769 году в Праге, в доме графа Ностица. В 1784 году он получил официальную регистрацию как Королевское чешское общество наук. В 1792 году император Леопольд II учредил в Пражском университете кафедру чешского языка. На следующий год чехи подали петицию о введении чешского языка при прениях в сейме. В 1818 году был основан чешский музей. В 1831 году при нём возникла Чешская матица — общество, имеющее своей целью разработку чешского языка и литературы. И никаких препятствий со стороны властей!
А ведь при желании весь этот «национальный подъём» можно было оборвать на корню! Насколько искусственной была вся эта конструкция, показала европейская «Весна народов» — революция 1848 года. Тогда полыхнуло практически везде! Кроме Праги. В то время, когда империя шаталась и была готова рухнуть, в Богемии всё ограничилось сходками и совещаниями.
Впрочем, определённой вехой в вопросе национального самосознания революция стала. Немцы в империи стали значительно резче отделять себя от чехов: немцы были куда революционнее! Во время «Весны народов» именно славяне, и в первую очередь чехи, стали опорой престола. Но поплатились за «революцию» именно они! 24 мая в Праге собрался Славянский съезд с целью сплотиться вокруг императора. Во время митинга 11 июня кто-то выстрелил и случайно попал в жену коменданта Праги княгиню Марию Элеонору Виндишгрец. Генерал князь Альфред Кандид Фердинанд цу Виндишгрец подобного не понял и направил войска на разгон митинга. В городе начались стычки студентов с войсками, в результате генерал начал бомбардировку города, после чего Прага капитулировала. В сравнении с Венгрией (да и с самой Веной!) — мелкие беспорядки!
В 1860 году был издан Октябрьский диплом, который декларировал равенство народов в империи, исторические права отдельных земель и местное самоуправление. Богемия прислала своих депутатов на имперский сейм, рейхсрат, где те объединились с поляками и выступили против централизации управления государством. Всего намеченного добиться не удалось, но в результате в 1866 году был принят закон об обязательном преподавании в средних учебных заведениях чешского языка наряду с немецким.
Имперское устройство не давало привилегий чехам как народу, но позволяло персонально достигать любых самых высоких военных и административных должностей — в этом плане никакого ограничения не было. Даже преподавание двух языков в школах больше напрягало немцев, чем чехов.
И всё же... Для настоящего национального пробуждения чехам не хватало самой малости — своей великой культуры. Ну или не великой, но своей. Хоть какой-нибудь, но своей! История имелась. Язык... его даже удалось воссоздать из деревенских говоров. Прага была великолепным имперским городом, но не чешским. Пражский университет был одним из лучших в Европе, но там преподавали на немецком. Чешские музыканты были одними из лучших исполнителей в мире, но чешской музыки не существовало!
И вот появились будители. Это были просветители, учившие чехов чешскому языку. Будители были страшными русофилами! Ещё бы! Самая настоящая империя, в которой государственный язык — откровенно славянский. В которой есть настоящая великая культура, в том числе литература, созданная на этом языке. Древняя литература! В 1800 году Алексей Мусин-Пушкин издал «Слово о полку Игореве», а это стало для будителей откровением: оказывается, может быть древнее литературное произведение на славянском языке, ни в чём не уступающее какой-нибудь «Песне о Роланде». А в самой Чехии... всё было в этом плане печально.
В сентябре 1817 года один из учеников известного чешского филолога Йозефа Добровского (который чешский язык выучил в зрелом возрасте, а родной для него был немецкий) Вацлав Ганка объявил, что нашёл в церкви городка Двур-Карлове-над-Лабем старинную рукопись. Пергаментную, XIII века и — на чешском языке! В рукописи, получившей название Карледворская, содержалось 14 песен, образцов как лирической, так и эпической поэзии. Это были героические рассказы о битвах чехов со «злой ратью» немцев, поляками — «полянами свирепыми», «дикими татарами». В частности, в поэтической форме описывалась победа чешских рыцарей над монголами при Оломоуце в 1241 году.
Рукопись имела эффект разорвавшейся бомбы! У чехов появилась своя древняя литература, которую без ложной скромности можно было считать великой. Вскоре была найдена ещё одна рукопись, названная по месту находки, замку Зелена Гора, Зеленогорской. Вскоре рукописи в Богемии стали называть только с большой буквы — Рукописи. И они того стоили! Это были прекрасные образцы литературы на старочешском языке, не менее прекрасные в качестве исторических источников. На них ссылался в середине XIX века русский историк Сергей Соловьёв в своей работе о родовом праве у славян (Любушин суд из Зеленогорской рукописи).
Рукописи стали поводом для расцвета чешского национального чувства. Чехи стали учить свой язык, говорить и писать на нём. На сюжеты из Рукописей ставились пьесы, писались картины и музыка. Чешская культура заколосилась как пшеничное поле по весне. Но...
Первым сомнения в подлинности рукописей начал высказывать старик Добровский. Нет, он был рад тому, что такие документы появились, но... С литературной и филологической точки зрения они были прекрасны! А с исторической... Яркий антинемецкий пафос был хорош в XIX веке, но в Средние века его просто не могло быть. Нации ещё не сложились, а то, на каком языке говорит сеньор, вассалу было без разницы — он служил человеку, а не нации. К тому же сам стиль повествования вызывал дежавю — очень похоже на «Слово о полку Игореве» и южнославянский эпос. Да и сведений о битве чехов с монголами при Оломоуце нигде, кроме Рукописей, не было.
Старика будители просто заклевали! Притом что он был весьма осторожен: не хотел навредить зарождению национального самосознания и критику допускал только в личной переписке, а не публично. Но нашёлся другой авторитет — Ерней Капитар. Если Добровский высказывал сомнения только в Зеленогорской рукописи, но не отрицал Карледворской, Капитар утверждал, что подделки — обе!
Капитара тут же обвинили в зависти к чехам (он был словенец по национальности) и вообще — в работе на австрийцев. Вот только его аргументы от этого не становились менее убедительными. Хотя... кого это интересовало, ведь речь шла о национальном возрождении! Но вскоре пришла пора и более серьёзной экспертизы. В 50-е годы XIX века тщательному исследованию подвергли пергамент, на котором была написана «Любовная песня короля Вацлава». Дело в том, что это был палимпсест: пергамент вещь дорогая и часто новый текст писали, смыв старый. Учёные умудрились прочитать плохо смытый старый текст и выяснилось, что чешское стихотворение XII века написано поверх текста XV века.
Дальше — больше! Выяснилось, что в качестве синей краски в рукописях используется берлинская лазурь — краска, появившаяся только в конце XVIII века. А потом на месте работы умершего к тому времени Ганки, в библиотеке Национального музея, были найдены черновики, на которых он тренировался писать «древние» тексты. Это был шок! Сокровища древней чешской литературы оказались талантливой, но подделкой.
Тем не менее свою роль фейковые рукописи сыграли. Чешское национальное возрождение началось, и его было уже не остановить.
Фёдор Ступин,
специально для alternatio.org
